После многолетнего капитального ремонта был торжественно открыт Дом №1, первый корпус, в котором когда-то начал работу новосозданный БГУ. Многие следы истории тщательно выскребли. «Наша Ніва» расспросила специалистов, почему так произошло.

Работы по реконструкции исторического здания университета на улице Красноармейская, 6 начались еще в 2020 году. В начале ноября следующего года, когда дело дошло до строительных работ, историков перевели в удаленный корпус на улице Менделеева.
Изначально была идея превратить корпус в своеобразный музей с большим экспозиционным залом, нумизматическим кабинетом, копиями античных статуй в коридорах и стендами по истории страны. Архитекторы показывали рендеры с помпезными интерьерами, из которых уже было понятно, что ничего старого, исторического на историческом факультете не останется. Вышло, как видно теперь, еще хуже.

Здание истфака внесено в Государственный список историко-культурных ценностей как памятник республиканского значения сразу с двумя датировками — 1863—1867 и 1953—1957 гг. Сегодня здание выглядит как рядовой памятник советской неоклассики, но его история более сложна.
Первые здания на этом месте действительно были построены в 1860-х гг. купцом Сакером. В одном из них в начале XX века разместилась частная гимназия Фальковича, вид которой сохранили открытки того времени. После революции здание было национализировано, и в 1921 году здесь разместился только что созданный Белорусский государственный университет. Здание бывшей гимназии стало называться «Дом № 1».

Во время Второй мировой войны здание было разрушено. Его не стали восстанавливать, а построили на этом месте в 1950-х годах нынешнее четырехэтажное здание. Однако датировка в Госсписке не является ошибочной: была сохранена и укреплена дворовая часть старого здания, большую часть которой сегодня занимает актовый зал факультета. Отличить старую часть от новой можно по массивным, в два раза более толстым стенам.

До недавней реконструкции здание истфака сохраняло этот советский флер: колонны на фасаде и в фойе, мозаичные и паркетные полы, лепные порталы, карнизы и розетки, старые двери и витражи.
Все это считалось неотъемлемой частью памятника архитектуры и было официально взято под охрану. Однако в обновленном здании почти ничего из этого не осталось. На полах появился черно-белый керамогранит, а всю лепнину поглотили подвесные потолки.
«Наша Ніва» попросила специалистов по реставрации прокомментировать то, что произошло с памятником архитектуры.

Судя по обнаруженной документации, проект реконструкции с элементами реставрации был разработан столичной фирмой «ИнжСпецСтройПроект», а отвечать за сохранение всего ценного должна была научный руководитель Елена Байнак.
Однако к своей работе ответственные лица, похоже, отнеслись равнодушно. Слова ректора Андрея Короля о том, что «антураж первого дома БГУ полностью сохранен с сочетанием современных элементов», полностью расходятся с реальностью. Деньги выделялись на реставрацию, но реставрации не получилось.


Специалисты называют проведенные работы издевательством над реставрацией, вредной и неумелой халтурой. Здание истфака относится даже не к рядовой исторической застройке — это ценность 2-й категории, памятник республиканского значения. Как отмечают специалисты, научные руководители на таких объектах должны заставлять проектировщиков и заказчиков максимально сохранять то, что уцелело, и по возможности восстанавливать утраченное. Но на Красноармейской, 6 этого нет. Наоборот, памятник архитектуры выскоблен изнутри подчистую.

По мнению реставраторов, если паркетные и мозаичные полы признаны частью памятника, то при ремонте должны восстанавливаться именно они. Они считают, что то, что было сделано на истфаке, делалось в обход закона. Если еще с паркетной доской чиновников могли убедить хозяйственные и эксплуатационные доводы (дорого и быстрее изнашивается, чем керамогранит), то мозаичный бетон — практически вечный материал. Его замена на черно-белый керамогранит — это попытка угодить чьим-то вкусам в ущерб памятнику.
Каждый сантиметр потолка был зашит подвесными конструкциями с дорогими светильниками «под старину», которые скрыли лепные карнизы и розетки, украшавшие здание в 1950-е годы.

«Это повсеместная беда: смежные специалисты прокладывают все свои коммуникации так же, как в каком-нибудь офисном здании, но на памятниках архитектуры такой подход недопустим. В исторических зданиях все коммуникации располагались в стенах, а потолки украшались декором.
Видно, что истфак не был рассчитан на такое: в коридорах подвесные потолки заходят на окна, а в актовом зале даже на скульптурный портал сцены!» — отмечает один из специалистов, к которому мы обратились.
Иногда через исторический памятник необходимо провести вентиляционную трубу, чтобы поддерживать определенный микроклимат, например, в музее. Но в учебном корпусе, где воздух в просторных аудиториях обновляется на каждой перемене, а также можно просто открыть окно, этого не требуется.

Кодекс о культуре дает высший приоритет охране наследия — на памятнике архитектуры можно отступить от требований любых строительных норм, если они противоречат сохранению его особенностей.
На это спокойно смотрят и в Министерстве архитектуры, и в экспертизе, даже обычно непреклонные пожарные отступают перед этим законом.
«Одна из главных задач научного руководителя — доводить это до проектировщиков, защищать памятник перед требованиями экспертизы и пожеланиями заказчика.
Сегодня же часто можно видеть обратную ситуацию: так называемый научный руководитель помогает обосновывать уничтожение истории, чтобы угодить заказчику и выполнить требования норм, которые меняются каждый год», — объясняет реставратор.


Лепнину могли имитировать и на новом потолке, этому ничто не мешало, но вместо нее либо молдинги из магазина, либо вовсе ничего. Только в актовом зале повторили большую розетку. Еще немного бутафорского декора, которого никогда не существовало, добавили в аудиторию № 208, посвященную первому ректору БГУ Владимиру Пичете. Здесь же за стеклянной перегородкой восстановлен рабочий кабинет ученого со старосветским столом, книгами и его личными вещами.

Это, пожалуй, самая яркая часть здания. Несмотря на насыщенные цветом рендеры, в реальности интерьер оказался бело-серым. На 2-м и 3-м этажах факультета разместилось более 80 стендов и экспозиций. Темные, почти черные стенды с исторической информацией выглядят перенесенными сюда из совершенно других интерьеров.

«Правильно подобранные цвета как раз в первую очередь передают «историчность» интерьеров. Белые потолки, лепнина, колонны, балюстрада — неграмотный современный стереотип», — отмечает другой специалист.

Те декоративно-монументальные произведения, которые ранее украшали интерьеры, такие как панно с Кастусем Калиновским и сюжетом из произведений Янки Купалы, были просто разломаны и уничтожены. Это известно из тех кадров, которые поступали из здания во время строительных работ. Неизвестно, что стало с витражами, украшавшими окна одной из аудиторий.

«Мы видели только часть здания после реконструкции, неизвестно, что стало со спортивным залом, где хотели сделать музей. Но то, что видели, оставляет грустное впечатление. Везде бросается в глаза непродуманность: двери сделаны вроде бы по образцу старых, но фигурные ручки современные, магазинные; фрамуги, которые должны быть застекленными, почему-то полностью глухие. В буфете мы видим неожиданное яркое пятно — оранжевые жалюзи в худших традициях 2000-х годов. Зачем разрабатывали целый дизайн-проект, если в итоге получилось провинциальная забегаловка?»

Единственное, что осталось исторического в интерьере, — две колонны в фойе и парадная лестница с бетонными ступенями и фигурными балясинами. На фоне блеска керамогранита, в который закатали весь корпус, советский бетон выглядит очень странно, даже архаично.
По мнению реставраторов, многие обитатели корпуса могут согласиться с тем, что там ничего ценного не было, но это не так. Архитектура деградирует со временем, плохо смотрятся уже даже здания 1980-х годов, не говоря уже о послевоенных или дореволюционных. С каждым обновлением теряются или искажаются какие-то элементы: некогда привлекательное здание превращается просто в коробку.
«В этом и заключается разница между обывателем и специалистом по реставрации. Последний должен видеть то, чего другие не замечают, и выявлять эти вещи так, чтобы они стали заметны для других», — отмечает реставратор.

Даже если не брать во внимание историческую и научную обоснованность интерьеров, многие места кажутся непродуманными, а выполнение работ — небрежным. Так, например, строители не смогли повторить из гипсокартона полукруглые арки в коридорах — они получились кривыми.
«Такое нужно заставлять переделывать, пока не будет сделано как следует. Никто этого не сделал. Теперь у арок легкая заостренность — то ли «намек» на готику, то ли на «арабскую ночь» из Аладдина», — иронизируют специалисты.
Проблему видят в общей деградации строительства в Беларуси. Сегодня найти людей, которые действительно способны делать что-то сложнее ремонта квартиры, очень трудно.
Никакого лицензирования работ на объектах историко-культурного наследия не существует — бригада, которая до этого строила только коровники, завтра может работать на памятнике архитектуры.

Однако возлагать всю ответственность только на строителей тоже не стоит — в обновленном корпусе много визуального мусора, за которым не уследили архитекторы.
«Более четырех лет люди занимались объектом. А в итоге по всем стенам тянутся «сопли», как мы называем провода, на самых видных местах висят какие-то датчики, короба, указатели выхода, то тут, то там вылазят кондиционеры. Вы же делаете капитальный ремонт, каждый провод можно было заштробить в стену, каждый ненужный элемент, эту визуальную мишуру — спрятать, замаскировать. Времени было более чем достаточно», — разочарованно замечает один из собеседников.
На фоне той трагедии, которая произошла с интерьерами, фасады выглядят вроде бы неплохо: сохранен эффект чередования разной текстуры рустовки, архитектурные детали обновлены и выделены другим цветом, как это было в 1950-х годах, окна новые, но очень похожи на исторические, а вместо пластиковых дверей на входе установлены красивые деревянные двери с латунными ручками, вероятно, восстановленные по архивным чертежам.
Как отмечают специалисты, видно, что фасадам уделялось больше внимания, потому что на них смотрят все, в том числе высокопоставленные чиновники, работающие в этом правительственном квартале. Но и здесь не обошлось без неприятной халтуры: при восстановлении нижней части портала, которая долгое время была просто закрашена серой краской, не смогли подобрать соответствующий оттенок и даже повторить руст (шов), как в верхней части портала.

«Полуколонны пообсыпались в нижней части, их 70 лет как могли ремонтировали. Их подножия, так называемые базы, утратили свою форму, но до ремонта еще были узнаваемыми.
Невозможно было даже представить, что во время «реставрации» их просто собьют и аккуратно заштукатурят это место! Конечно, так строителям проще, но куда смотрели проектировщики, научный руководитель, контролирующие органы?» — возмущается другой собеседник.

Иронично, что одна из пяти специальностей на историческом факультете называется «музейное дело и охрана историко-культурного наследия». Студентов будут учить сохранять историко-культурные ценности в уничтоженных исторических интерьерах памятника архитектуры.
Специалисты обнадеживают, что исторический облик памятника, к счастью, был зафиксирован до разрушения, а значит, в будущем будет возможность очистить истфак от результатов «евроремонта» и восстановить утраченные элементы. Правда, на это могут уйти десятилетия.
«Наша Нiва» — бастион беларущины
ПОДДЕРЖАТЬВ Жировичах устанавливают новые позолоченные иконостасы в русском стиле. Барочный иконостас церковники передали в музей
Началась реставрация Бобруйской крепости. Вернутся ли имперские орлы на фасады?
Как выглядит всемирно известная еврейская семинария в Воложине после реставрации — много фото
Реставрации в Беларуси осталось на три дня. Главному предприятию страны фактически подписали смертный приговор

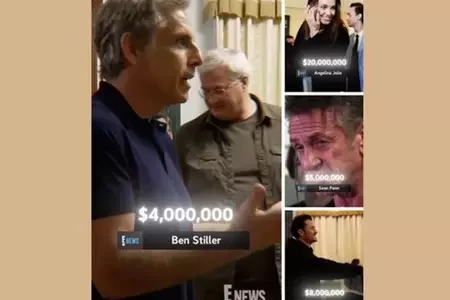



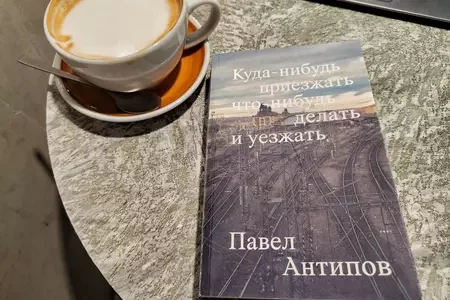















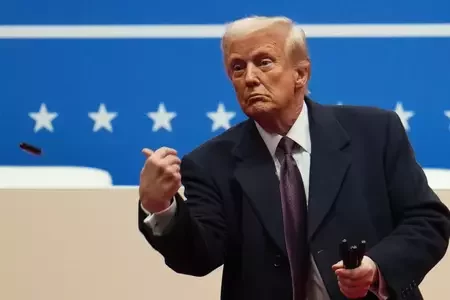






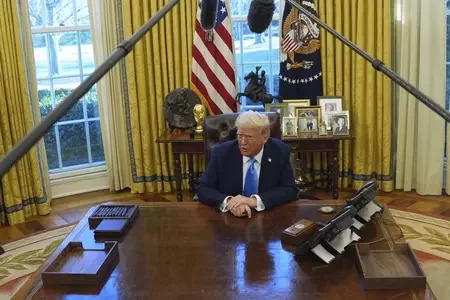

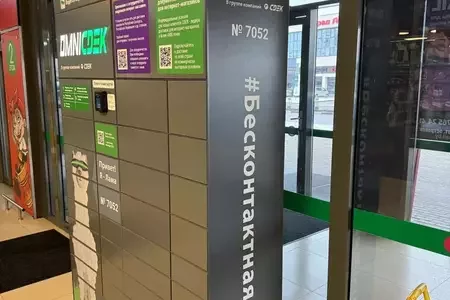











Комментарии